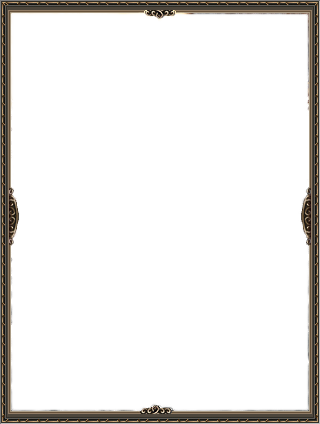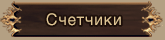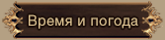Только когда улыбка исчезла с лица Регрета — медленно-медленно, как будто время замедлило свой ход, — Мисия поняла, что совершенно зря раскрыла свой рот и решила разоткровенничаться. Светоносный Люммин, ей определённо стоило прикусить язык и больше не заводить тему привязанностей, потому что каждая попытка оборачивалась катастрофой. Но то, каких масштабов оказалась конкретно эта катастрофа, она не смогла бы предвидеть даже в самом смелом предположении.
Из-под личины растерянного мальчишки опять вылез Клык — и не тот, к которому можно было бы обратиться "многоуважаемый" в шутку, — а его "не понял" звучало не с недоумением, а как если бы он обнаружил в вине совершенно ничем не замаскированный яд и теперь не понимал, кому хватило наглости.
Артемисия почувствовала себя этим самым ядом в чужом вине, и только пришедшее на помощь спокойствие избавило её от необходимости унизительно поёжиться не от страха даже — от осознания того, настолько неуютным стал этот закуток, и насколько она была сейчас отрезана от шумной публики. Кровь ударила в голову, возвращая пусть и вымученную, но всё же уверенность в себе, и на вопросительно-напряжённый взгляд она ответила взглядом спокойным, не стремящимся изучать стенку или собственные колени.
Взгляд ясно говорил: давай, напади, если тебе станет легче, я не боюсь, и даже потом не буду держать зла.
В эту игру могли играть двое: если он — Клык, то она — сестра милосердия под защитой Ордена, и бояться его уж точно не будет. И, чего уж, так было даже проще: мальчишка вызывал в ней чувство смутной вины, а с Клыком можно было говорить почти на равных.
Мисия медленно-медленно, в пику своим привычкам, положила руки на стол раскрытыми ладонями вверх — простой жест, напоминающий, что оружия при ней не было. С кем-то иным могло бы хватить и этого, вот только они оба знали, что две персоны, застывшие друг напротив друга, вообще-то, маги. Но оставалась смутная надежда на то, что её жеста, прямо говорившего о безоружности, хватит на первое время.
— Твоя болезнь никуда не делась, — каждое слово приходилось выговаривать чуть ли не побуквенно, взвешивая, что вообще она может сказать, а насчёт чего лучше вообще не заговаривать, — а если и исчезла, то причин я как не знала тогда, так не знаю сейчас. И никто не знает.
"Особенно ты", подумалось ей, но по очевидным причинам эту мысль пришлось оставить при себе.
А потом Клык растерянно позвал не её, а как будто кого-то другого — короткое "Арти" абсолютно точно никогда не говорилось в её адрес, — запнулся, поправил себя и уставился в сторону двери. Но это, несмотря на растерянность, всё ещё был Клык, похожий на сжатую пружину, а не смущённый Регрет, не знавший, куда себя деть.
Любой, даже самый умный шаг, приходилось взвешивать и обдумывать — вот только времени на раздумия не было, да и возможно было бы назвать следующий шаг умным, Артемисия не знала. К счастью или несчастью, других мыслей всё равно не было, и этот шаг как-то сам собой остался один, а бездействовать было ещё хуже.
Поэтому она осторожно, будто собиралась засунуть пальцы в мышеловку, и не сводя глаз с Регрета, буравившего взглядом дверь, потянула руки вперёд, так и не отрывая их от стола, и накрыла ладонями чужие пальцы, пляшущие нервный и тревожный танец, заставляя перестать и заодно удерживая.
Осторожно, как с раненым зверем, который в любой момент мог сорваться в силках и ранить не только себя, но и невольного помощника. Крепко, потому что взгляд в сторону двери ей совсем не нравился, хотя, чего уж, при желании он мог её запястья переломить одной рукой — и вот тогда-то магия ей точно не поможет.
— Я хочу услышать, что с тобой всё будет в порядке, — как будто бы невпопад ответила Мисия, продолжая держаться за чужие руки. Говорить что-то ещё, сдабривая и без того высокие заявления большим привкусом того, что Клык мог принять за фальшь, она посчитала ненужным.
В конце концов, на кону всё ещё, возможно, стояли её запястья или хотя бы пара пальцев. Или — что гораздо важнее — остатки здравомыслия Клыка.
На её счастье, больше говорить пока не пришлось: Клык заговорил сам, надтреснуто изливая короткую историю о дружбе длиной в четыре дня, и Мисии пришлось удерживать на лице всё то же спокойствие, не позволяя пробиться удивлению.
Четыре дня. Всего-то. Как мало надо людям, чтоб стать друзьями — и всё равно нельзя удивляться. Особенно потому, что четыре дня не закончились разошедшимися дорогами, а оборвались самой настоящей смертью, без лишних оговорок. Все возможные вопросы, которые мог бы задать кто-то другой — Мисия не могла, потому что вмешиваться считала преступлением — за неё задал Клык и сам же ответил.
Но всё же, когда она услышала имя, удержать на лице спокойную и внимательную маску не удалось — Мисия растерянно моргнула, повторяя про себя сначала своё имя, потом чужое. Люммин, какая ирония, и правда.
Смерть — явление, как известно, неизбежное для всех, — как будто заглянула через её плечо и усмехнулась где-то рядом. Какая ничтожная разница, был Артемис и нет. Зато есть она, совсем на него не похожая, с именем, которое выбирал ей лично отец. Пока что есть.
Мисия сдавленно выдохнула, потому что грудь сдавило от не самой приятной правды и от осознания того, что эта правда едва ли единственная и самая неприятная из того, что ей ещё могут сказать. Теперь уже она была готова бросать тоскливые взгляды в сторону двери, да только для этого нужно было повернуть голову, а шея казалась деревянной. Как и собственные пальцы. Как и разум, до этого пытавшийся что-то анализировать, теперь растерянно опустел, лишившись всяких мыслей, и даже шум остальной части трактира достигал её пустой головы как будто через стёганое одеяло.
Один раз ей довелось рухнуть прямо с пегаса, благо, не в полёте, а на земле — тогда из неё будто весь дух выбили, и она просто лежала молча, не в силах выдавить из себя крик, пока цепкая хватка боли не отпустила её грудь. Жизнь оказалась строптивее любого коня и падать оказалось куда неприятнее.
Когда у неё хватило сил хоть что-то сделать, она отпустила чужие руки, подалась назад и, уже не стесняясь своей растерянности, закрыла глаза ладонью, больно надавив на веки.
— Извини, Клык, — глухо, потому что даже язык ворочался во рту как сухая коряга, — Я хотела тебе помочь, но теперь понимаю, что это было невозможно с самого начала. Во всяком случае, не с моим именем.
Совпадение было таким, что её, несмотря на почти живое тепло в трактире, бил озноб, и даже плащ бы этому не помог.
— Если тебе станет легче, не зови меня больше так. Называй Мисией — или не называй никак вовсе.
"Всего-то ничего осталось", хотелось сказать ей, но заговорить о будущем теперь не получалось совсем.
Отредактировано Artemisia (2022-04-19 16:30:44)